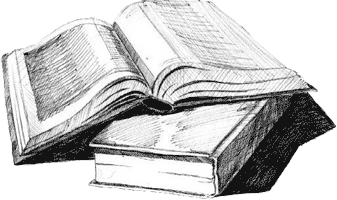 |
|
МЕНЮ
|
Французские простветителиупомянуть брошюры, пасквили, статейки, порочившие его имя, высмеивающие его причуды, дискредитирующие его взгляды. В каких только в смертных грехах не обвиняли его! Даже бывшие друзья мизантропический характер, и горько было убедиться в “страшной призрачности человеческих отношений”. Наконец, разве могло быть душевное состояние его гармоничным, когда католики парижского парламента и протестанты швейцарских консисторий с равным усердием предавали анафеме его сочинения, грозили сожжением всего им написанного, отдавали приказы об его аресте? Летом 1770 года Руссо читал свою “Исповедь” группе знатных особ. Какова же была их реакция? Пять-шесть дней подряд слушать чтеца – признак глубокой заинтересованности. Однако мелькнувшему в печати сообщению, будто “все плакали”, противоречат заключительные строки “Исповеди”: автору, заверившему слушателей, что “рассказал правду”, лишь одна г-жа Эгмон “показалась взволнованной”. Все молчали, да «и она тоже скоро оправилась”. Словами глубокого разочарования прервал Руссо свою книгу: “Таков был плод, который я извлек из этого чтения и своего заявления». Когда через некоторое время литератор Дюсо сказал ему: “Повысит ли вашу репутацию писателя и честного человека “Исповедь” с ее чисто домашними, порой скандальными деталями? Кто только не писал мемуаров? Это мания наихудшего бумагомарателя” - Руссо ответил: “Я доволен вами. Будем по-прежнему друзьями”. Обескураженный Руссо даже своему поклоннику Бернардену де Сен- Пьеру, с которым вел задушевные беседы, не давал прочитать то, что было уже многим известно. И в добавление ко всему аристократка, когда-то встретившая его в Монморанси ласковой шуткой “Вот ваше убежище, медведь”, любезная г-жа д’Эпине донесла на Руссо в полицию, что угрожало обыском и конфискацией рукописи. По тем и другим причинам Руссо публичные чтения прекратил, и ничего больше не выдавало наличия трех текстов “Исповеди”. Свою “Исповедь” Руссо начинает словами: “Я предпринимаю дело беспримерное, которое не найдет себе подражания”. Это прогноз в отношении будущего, так как в прошлом у него были предшественники. Достаточно вспомнить “Исповедь” гиппонского епископа IV – V столетий - Августина. И Августин и Руссо писали свои исповеди с чувством громадной важности того, что они намерены сообщить людям. За год до смерти Руссо писал: “Я не захожу так далеко, как блаженный Августин, который, будь он осужден на вечные муки, утешался бы мыслью, что такова воля божья. Моя покорность проистекает из источника, правда, менее самоотверженного, но не менее чистого и, на мой взгляд, не менее достойного того совершенного существа, которому я покланяюсь”. Самокритика – понятие, вошедшее в обиход человечества с надписи на древнегреческом храме: “Познай самого себя”. Какой смысл в это слово вкладывает Руссо, узнаем из его оценки толкования самокритики французским литератором XVI века – Мишелем Монтенем. За то, что он не был безразличен к борьбе добра со злом, что выразил уже сомнение в благотворности цивилизации, только начинавшей развиваться после варварства средневековья, Руссо очень уважал Монтеня. Но здесь речь идет о степени самокритичности в его автопортрете, каким он выступает из очерков книги “Опыты”. Что Монтень придавал своему автопортрету большое значение, видно из его декларации: “если бы я написал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденным виде, непринужденным и безыскусным, ибо я рисую не кого-либо иного, а самого себя. Мои недостатки предстанут здесь, как живые, и весь облик мой таким, какой он в действительности, насколько, разумеется, это совместимо с моим уважением к публике”. Довольно прозрачная оговорка: в откровенности надо соблюдать меру, иначе благовоспитанная публика будет шокирована, от соблюдения же меры – никакого ущерба правдивости автопортрета. Эта оговорка возмутила Руссо. ”Наиболее искренние, - правдивы самое большое в том, что они говорят, но они лгут своими умалчиваниями, а то, о чем они умалчивают, так изменяет то, в чем они как будто признаются, что, говоря лишь часть правды, они, в сущности, не говорят ничего. Я ставлю Монтеня во главе этих мнимооткровенных людей, которые хотят обмануть, говоря правду. Он показывает себя со всеми недостатками, но выбирает из них только привлекательные; однако нет ни одного человека, у которого не было бы недостатков отталкивающих. Монтень рисует себя похожим, но в профиль. Кто знает, может быть, какой-нибудь шрам на щеке или выколотый глаз на той стороне лица, которую он скрыл от нас, совершенно изменил бы его физиономию…”. В завещанном потомству женевском тексте “Исповеди” Руссо снова напоминает, что “всегда смеялся над фальшивой искренностью Монтеня. Он как будто и признает свои недостатки, а вместе с тем приписывает себе только те, которые привлекательны” Не по-монтеневски, а по-руссоистски изображенный автопортрет выявляет “обе стороны лица”, и вот это означает “без прикрас”, ибо полуистина всегда есть ложь. Что касается благовоспитанной публике с ее чопорностью и показной стыдливостью, незачем угождать такой публике, гримасы которой при виде подноготной чужого характера объясняются ее собственной нечистоплотностью. Люди – не ангелы. “Как бы ни была чиста человеческая душа, - говорит нам Руссо, - в ней непременно таится какой-нибудь отвратительный изъян”. Именно потому Руссо не скрывает свои “отталкивающие недостатки”, благодаря чему автопортрет его превращается в исповедь. В литературном произведении писатель, угадывая наилучшие возможности своего персонажа, часто создает не только образ, но и образец человека. Дистанция между “сущим” и “должным” у разных художников слова не одинаковая, но если дистанция слишком велика – фальшь неминуема. В исповедях дистанцировать нельзя. В исповеди нельзя не проявить и “достаточно точное знание самого себя, и «героизм чистосердечия”. Как раз этого и добивался Руссо. Только прогноз относительно, что “дело” его “беспримерное, которое не найдет себе подражания” удивляет: в силах ли человек предугадать возможности будущего? Начальная декларация “Исповеди”: “Я один… я не похож ни на кого на свете” - мною прервана; далее сказано: “И если я не лучше других, то по крайней мере не такой, как они”. Это еще скромно, а вот слова: “Я всегда считал и теперь считаю, что я, в общем, лучший из людей” - это уже подходит на самовозвеличие. Попробуем, однако, разобраться. В нравственном отношении лучший потому, что не скрывает ничего из своих проступков. Твердо зная, что “истина нравственная во сто раз больше заслуживает уважения, чем истина фактическая”, чем “подлинность самих предметов”, Руссо готов обнажить “самые интимные и грязные лабиринты” своей натуры. Но теперь встает вопрос: кто же в праве определить эти изъяны, чтобы вынести приговор моральному облику исповедующегося? Исповедуется он не перед священником, а перед “человечеством”. Сам Руссо не считает нужным оправдываться? Да ведь это значило бы, что он ничего дурного никогда не совершал, никогда ни кого не обманывал, между тем, увы, совершал и обманывал… Цитата из “Прогулок”: “Да, временами я лгал, но лишь относительно предметов мне безразличных…”, “О большом зле мне не так стыдно говорить, как о мелком”. В заключительной части ответа: “быть справедливым” - намекается на возможность полного оправдания. При этом со стороны не единичного читателя и даже не многих, арифметика тут бессильна, а со стороны некоего символического Читателя с большой буквы – лишь такой мог бы, взвесив на весах справедливости дурное и хорошее, решить, что перевешивает. Угнетаемый думами о неисправности окружающего и, как ему мерещиться, озлобленного против него мира, Руссо находит для себя утешение, источник неубывающей надежды, “опору”, нужную для того, чтобы “переносить свои жизненные беды”. В чем же? В “нравственном порядке” вещей и в “естественных законах” природы. Благодаря этой опоре Руссо превращается из слабого человека, который “не в силах опровергнуть неразрешимые противоречия” своего духа, в титана, идущего избранным путем «наперекор людям и судьбе”. Рациональными понятиями, объясняющими эту счастливившую Руссо идейную “систему”, он не обладает, и, зная, что им затронуты феномены, “превышающие человеческое понимание”, ему остается только воскликнуть в “Прогулке третьей”: “Разве это рассуждение и сделанный мной из него вывод не кажутся продиктованными самим небом?” В детстве страдания других волновали Жан-Жака больше собственных. Вздохи, сопровождавшие ласки отца, как только заходила речь спокойной матери, немедленно вызывали в нем отклик: “Значит, мы будем плакать, отец”. Готовность Жан-Жака волноваться по каждому значительному и пустячному поводу объясняется и впечатлительностью его натуры, и положением сироты, которого обычно больше жалеют, чем любят, и средой скромных женевцев с их вкусом к трогательным житейским ситуациям. Еще ребенок, а уже способен терпеть физическую и нравственную боль ради других. Однажды Жан-Жак заслонил своим телом наказываемого ударами палки старшего брата. В детском уме его, читавшего вместе с отцом своим Плутарха, сложился идеал античного героя: Муций Сцевола в плену сжег свою руку, чтобы доказать стойкость римлян, а маленький Жан-Жак протянул свою руку над пылающей жаровней, к ужасу всех бывших тогда в комнате. Помимо “врожденного чувства справедливости”, Жан-Жак получил в своей семье “здоровое и разумное воспитание”; несмотря на отдельные ошибки его родных, никогда он “не был ни свидетелем, ни жертвой каких-либо злобных чувств”. Семье своей Руссо обязан “гордым и нежным сердцем, послушным нравом”, склонностью к “римской суровости” и в равной степени к невинным детским забавам. И все-таки “порча” Жан-Жака началась еще в детстве, когда его низа что обвинили в поломке гребня и высекли. Скажи, что он виновен, его бы не тронули, но он молчал, потому что вины за ним не было, взрослым же казалось, что это “дьявольское упрямство”. Пятьдесят лет спустя Жан-Жак рассказывает: “Мне легче было умереть, и я решился на это”. Навсегда он запомнил свое переживание. С этого момента в сердце ребенка вторгалось зло, честный нрав мальчика начал портиться. По-другому он относится к своим воспитателям: “привязанность, дружба, уважение, доверие уже не соединяли больше” его с ними. Его теперь отличает скрытность, а в ней есть уже зачаток порока. Сельская жизнь утратила для него обаяние сладостного покоя и простоты, как бы покрывшись пеленой, скрывавшей от него ее красоту. То был первый крах иллюзии в отношении “мнимых богов, читающих в наших сердцах”. Жизнерадостный его характер помрачнел. Канцелярию городского протоколиста Массерона, где Жан-Жак недолго обучался делу судебного крючкотвора, он вспоминает с отвращением, и с ужасом – мастерскую гравера Дюкомена, хотя это ремесло нравилось ему. С ужасом – по причине грубости, хамства, избиений, на которые был щедр хозяин мастерской. Угрюмым стал здесь Жан-Жак, приобрел вкус к безделью, впервые стал обманывать и воровать. Ничто не оправдывает шестнадцатилетнего Жан-Жака в глазах Руссо, пишущего “Исповедь”. Но автор этой книги анализирует душевное состояние юноши в момент, когда уста его излагали гнусную ложь. То не пустые слова, что сердце Жан-Жака чуть не разорвалось от горя, что жертве своей клеветы он отдал бы всю свою кровь до последней капли. “Стыд был единственной причиной его бесстыдства…” Стыд прослыть вором. Учтите и «его годы, ведь он только что вышел из детского возраста, вернее – еще пребывал в нем». Однако всю жизнь Руссо не переставал ощущать угрызения совести. Среди многочисленных биографических исследований есть тема: “Друзья и враги Руссо”, есть так же тема: “Руссо и женщины”. Были дамы, преклонявшиеся перед его талантливостью и, не дальше того, были охотно будившие его чувственность, начиная с хозяйки лавки в Турине г-жи Базиль; некоторые, напротив, охлаждали его пыл, как госпожа Мабли в Лионе, мадам Дюпен в Париже; иные бывали, напротив, активнее его, как госпожа Ларанж – с ней он познакомился в дни поездки на целебные воды. Конечно интерес представляют не анекдотические амуры, питаемые часто его воображением, а те любовные связи Руссо, которые ставили его перед трудными вопросами морали. Одной из ситуаций, ставящей в тупик читателя «Исповеди», является роман Жан-Жака с госпожой Варанс. Впрочем, подходит ли тут слово “роман”? В ее доме, Жан-Жак избавлен от необходимости лгать, вернул себе невинность детских лет. Между тем к здоровой простоте вдруг примешались неожиданные сложности; в орешке чистоты и нравственности оказалось ядро кой чего нравственно сомнительного. Длительный отрезок времени Жан-Жак и госпожа Варанс умиляют нас ласковым обращением друг к другу: “маменька” - “малыш”. И вдруг – не по собственной инициативе – семнадцатилетний Жан-Жак открыл в тридцатилетней женщине, усыновившей его, если не юридически, то фактически, помимо “сердца матери” еще и “душу любовницы”… Она, видите ли, забеспокоилась по поводу того, что он с удовольствием обучал пению “любезных, прекрасно одетых девушек», вдыхая при этом “аромат роз и флердоранжа”. Вскоре Жан-Жак открыл для себя нечто куда более озадачивающее: госпожа Варанс делила свою “душу”, половину отдавая ему, половину своему лакею Клоду Ане, и нельзя не сказать, что Жан-Жак с этим мирился гораздо легче, чем его старший годами и более глубокий чувствами соперник. Что в своей ранней поэме “Сад в Шарметтах” Жан-Жак освятил госпожу Варанс воплощением целомудрия. В «Исповеди» отсутствует малейшая попытка судить не щепетильность госпожи Варанс в делах женской чести. Скорее оправдывает ее рассуждение о том, что при “ледяном темпераменте” ее связи являются не погоней за “сладострастием”, а неким “самопожертвованием”, что, склонная к “безупречной нравственности”, она была сбита с пути истины цинизмом своего покойного мужа. Так объясняет Руссо поведение госпожи Варанс. Очевидно, доброта, щедрость, проявившиеся к нему, перевесили на весах морали ее бесстыдство. Не любовная их связь осчастливила его, в чем Руссо откровенно признается, а уют, который он – нищий бродяжка – внезапно обрел. И все-таки отношения Жан-Жака и госпожи Варанс смущают читателя. Нелегко объяснить и другой эпизод: одновременно, когда Руссо разоблачал нечистого на руку французского посла в Венеции, он встречался с куртизанкой Джульеттой. При госпоже Варанс Руссо еще юно, теперь ему тридцать два года. Джульетта, по-видимому, относилась к нему серьезней, чем он к ней, иначе не уехала бы она тайком из своего дома во Флоренцию, разгневанная его странностями. Лет через восемнадцать любовные приключения героя “Новой Элоизы” - Эдуарда Бомстона, тоже развертывающиеся в Италии, кончаются любовью к нему проститутки Лауры. У Руссо в Венеции, судя по “Исповеди”, нет ничего похожего на коллизию Бомстона между родившимся в нем чувством и консервативной моралью, однако не исключено, что в подсознании своем Руссо уже смутно переживал то, что легло впоследствии в основу его трагической новеллы. Наконец его роман с графиней д’Удето. Они встречались у госпожи д’Эпине, чей домик в парке занимал Руссо, почти ежедневно гуляли в лесу, при свете луны ночами сидели вдвоем. Объяснять их свидания лишь тем, что графине льстила любовь прославленного философа и литератора, слишком упрощает вопрос – в сорокапятилетнем Руссо не угасала еще душа юного романтика.Но госпожа д’Удето имела любовника – офицера Сен-Ламбера, находившегося в то время в армии. И слезы Руссо от невозможности обрести счастье в объятиях Франсуазы д’Удето смешивались с ее слезами верности своему любовнику и жалости к страдающему другу. Вскоре Сен-Ланбера уведомили, что происходит в его отсутствие, и он в письме потребовал от госпожи д’Удето не навещать больше Руссо. Чего ждет читатель, придающий слову “исповедь” моральное значение, от ее автора? Раскаянья по поводу двух измен, которыми он запятнал себя – и в отношении жены Терезы, и в отношении друга Сен –Ламбера? Напрасно ждать. По- видимому, Руссо не усматривал вины в том, что было между ним и госпожой д’Удето, или считал эту вину своей трагедией: счастье так редко в жизни, а эта страсть из всех его увлечений женщинами единственная настоящая любовь, первая и последняя. Вспоминая в “Исповеди”, как он писал свой роман о Юлии и Сен-Пре “в самом пламенном экстазе”, Руссо не скрывает, что “Новая Элоиза” - сублимация его интимных отношений с госпожой д’Удето и что “среди многих любовных с ней восторгов” он “сочинил для последних частей “Юлии” несколько писем, насыщенных упоением”. Еще кое-что сообщает нам “Исповедь”. Оказывается, пятерых своих детей Руссо младенцами отдал в дом для сирот и никогда в дальнейшем не интересовался их судьбой. Удивительно: в книге «О воспитании» он требовал, чтобы при всех условиях, и в богатстве и в нищете, родители сами растили своих детей, не передоверяя это чужим людям, ибо семья – первооснова всех добродетелей. Требовал от других, а сам… Чем же Руссо объясняет и тут же Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.